Добро пожаловать на сайт Федерального министерства иностранных дел
Андреас Гольдштайн: "Нельзя снимать кино о жизни других"
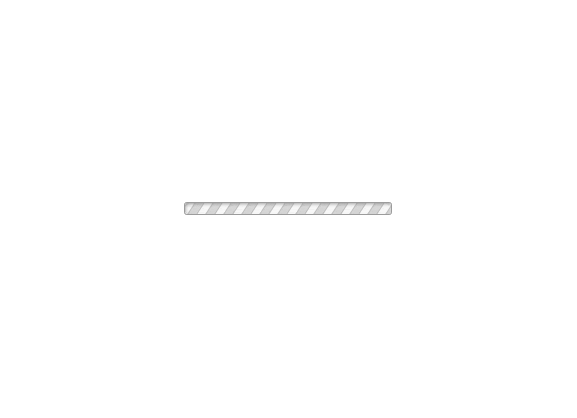
Сцена из фильма "Адам и Эвелин" © Neue Visionen Filmverleih
В немецком кинематографе с недавнего времени появился новый тип фильмов о ГДР. В них на первый план выходят не события большой истории, а биографии людей, живущих своей тихой жизнью, часто параллельной потоку исторических перемен.
Один из самых ярких примеров – драма Андреаса Гольдштайна "Адам и Эвелин", премьера которой состоялась на Фестивале немецкого кино в Петербурге.
Гольдштайн – поздний дебютант. Он учился режиссуре в Высшей школе кино и телевидения имени Конрада Вольфа еще в 90-е, а свои первые фильмы снял только в 2018-м. После окончания вуза он работал продюсером и собирался с мыслями: "Я ждал того момента, когда мне будет что сказать. И я дождался". Такого мощного дебюта в немецком кино и правда не было давно. В один год Гольдштайн снял сразу две картины. Документальный "Функционер" посвящен биографии его отца, министра культуры ГДР Клауса Гизи. А игровая драма "Адам и Эвелин", экранизация одноименного романа Инго Шульце, рассказывает о молодой паре, которая уезжает на отдых в Венгрию летом 1989 года, за несколько месяцев до падения Берлинской стены. Там, где другие авторы находили лишь сюжеты о стремлении к свободе, Шульце и Гольдштайн увидели историю об изгнании из рая: их герои, покидая ГДР, теряют часть себя.
– Почему для игрового дебюта вы выбрали роман Инго Шульце?
– Я прочитал книгу в 2009 году. И пока я ее читал, у меня было полное ощущение, что я смотрю кино. При этом описанное в романе сильно отличается от тех картинок, которые сейчас принято ассоциировать с концом ГДР: бегущие по улицам люди, рухнувшая стена, всеобщее воодушевление… У Инго Шульце интонация скорее меланхоличная, и герои такие же. И это полностью совпадает с моими собственными воспоминаниями и ощущениями того времени.
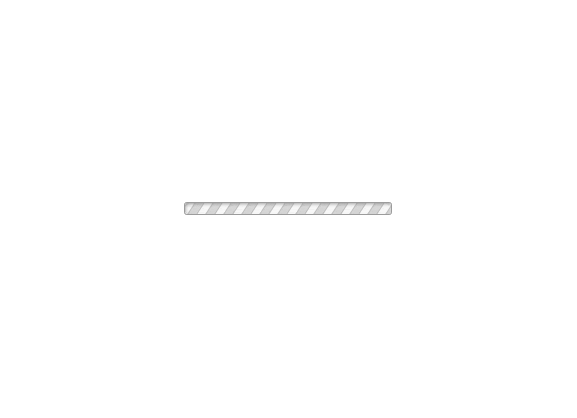
– Да, он был вместе со мной на премьере картины на Венецианском кинофестивале. Ему очень понравилось. На радостях он даже сгреб меня в охапку и поднял в воздух. (Смеется.) Думаю, у него были свои опасения. Как только мы начали работу, стало понятно, что фильм будет сильно отличаться от книги. Текст у Шульце построен на блестящих диалогах. Герои постоянно что-то обсуждают, ругаются, доказывают друг другу. Одна моя подруга очень точно описала то, как Инго строит фразы: она сравнила это с иголкой, которая пронзает сразу три слоя ткани. Но кино – это не литература, там надо показывать, а не описывать. Так что я во многом шел против течения, против слов.
– За последние несколько лет в немецком кино появилось сразу несколько знаковых фильмов о ГДР, снятых режиссерами, рожденными в Восточной Германии: "Между рядами" Томаса Штубера, "Гундерманн" Андреаса Дрезена. Ваша картина тоже отлично встает в этот ряд. Вы чувствуете себя частью какой-то новой волны?
– Не чувствую. Но в том, что все эти фильмы появились именно сейчас, есть своя закономерность. Почти все важные игровые картины о ГДР, снятые за последние двадцать лет, были сделаны режиссерами из Западной Германии. ГДР в нашем кинематографе стала отдельным сюжетом – таким же, как, например, нацистская эпоха. Но вглядитесь попристальнее в эти истории. Они же рассказывают об одном и том же. Там всегда есть Штази и злобные партийные аппаратчики. Конфликт сводится к противостоянию репрессивного государства и свободной личности. И финал упирается в момент падения Берлинской стены. На нем все заканчивается, наступает свобода. Мне, как и многим восточным немцам, все это казалось чудовищным. Потому что это не имеет никакого отношения к моему личному опыту. Неудивительно, что возникла потребность рассказать о чем-то другом. Мне вообще кажется, что автор может говорить только о том, что напрямую связано с ним самим. Нельзя снимать кино о жизни других.
– Но почему эти фильмы не были сделаны пять лет назад, десять лет назад? Почему сейчас?
– Думаю, здесь накладываются политические причины, связанные с выборными успехами правых сил. Все спрашивают себя: как так? Что вообще происходит? Многие западные немцы объясняют себе успехи партии "Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland) через ГДР. Если очень грубо, то они говорят: у вас нет опыта демократии, вы вышли из авторитарной диктатуры и поэтому хотите туда вернуться. Но, на мой взгляд, они не понимают, что проблемы в восточных землях связаны не с опытом ГДР, а с прошедшими тридцатью годами. С тем, как с людьми на Востоке обошлись после объединения Германии. Вот поэтому режиссерам из ГДР было так важно заговорить и начать рассказывать свои истории.
– Как приняла "Адама и Эвелин" немецкоязычная публика?
– На Востоке – хорошо. На Западе – не очень. В Берлине фильм показывали в небольших кинотеатрах, и там на три недели вперед было все раскуплено, хотя мы даже рекламы особой не делали. А вот в Нюрнберге и Брауншвейге, например, на сеансах было человек по пятнадцать. Фильм там просто прошел мимо зрителя.
– У вашей картины удивительный ритм. Мы, сидящие по эту сторону экрана, знаем, что через несколько месяцев падет Берлинская стена. И обратный отсчет уже пошел. Но ваши герои никуда не спешат. Много сцен, в которых они просто отдыхают или спят. Еще и черепашка в кадре ползает.
– Я, кстати, не вкладывал в черепашку никакого особого смысла. И в целом фильм не кажется мне медленным, он довольно быстрый в переходе от сцены к сцене. Неспешность, о которой вы говорите, связана с моими попытками передать ощущение времени в ГДР. В моих воспоминаниях мы много сидели, много говорили, все время как будто чего-то ждали – наверное, того, что все изменится. По сравнению с сегодняшним днем у людей было много свободного времени. И да, я не верю в драматизацию момента, в которую уходит большинство исторических фильмов. Это когда один герой символизирует одно, другой – другое, а потом происходит какое-то большое событие. Но у меня иное восприятие. Для меня люди сидят вот здесь, и где-то там, за их спинами, идет мировая история, падает Берлинская стена. Но они никуда не исчезают, они продолжают сидеть вот здесь, перед нами.
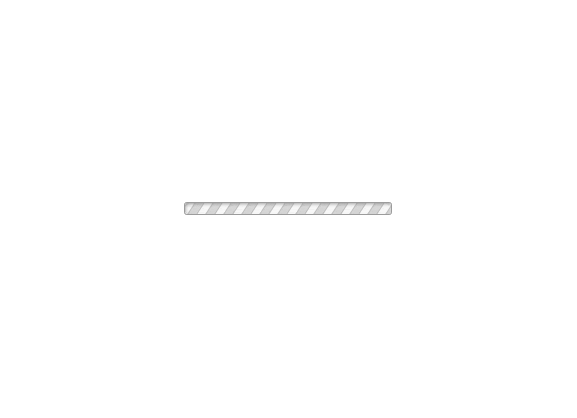
– Для меня было важно, чтобы зритель их не знал. Я не хотел брать актеров, которые и так все время кочуют из одного фильма про ГДР в другой. Еще была любопытная проблема с возрастом. В романе все герои довольно молодые. Эвелин около 25, Адаму – около 30. В ГДР женщина в этом возрасте уже могла быть в разводе и иметь двоих детей. Но сегодня юность длится дольше. В 20 лет почти никто не рожает. Так что если бы я взял актеров того же возраста, это было бы другое кино: либо подростковая драма, либо история взросления. И тогда из фильма выпало бы политическое измерение. Так что я взял артистов постарше. И не засвеченных. Анне Канис сама родом из ГДР. А вот Флориан Тайхтмайстер – австриец, он из Вены.
– И это ему не помешало?
– Нет. На родине его, между прочим, хорошо знают. Во времена моей юности было такое выражение: "В ГДР он мировая знаменитость". Так вот, Тайхтмайстер – мировая знаменитость в Вене. Он театральный артист, очень востребованный. И его утверждение на роль было настоящей удачей. Не знаю, есть ли такая проблема у российской актерской школы, но в немецкой актеры часто вываливают наружу все, что чувствуют. Вот сейчас герой зол, потом грустит, потом ревнует. А меня интересовали более сложные чувства, и я хотел, чтобы актеры их отыгрывали, но не напоказ. Флориан это делает замечательно. Он, правда, волновался по поводу диалекта, но я сразу сказал ему: "Это ерунда. До тех пор, пока зрители не слышат в тебе уроженца Вены, все в порядке". Я посоветовал ему послушать, как говорили гдровские интеллектуалы – такие, как Хайнер Мюллер или Томас Браш. Это нужный тон. И очень важный: писатели в Восточной Германии проводили время в тех же кнайпе, что и простые рабочие.
– Почти одновременно с "Адамом и Эвелин" вы сняли документальный фильм "Функционер" о своем отце, политике Клаусе Гизи, который был министром культуры ГДР. Почему вы решили обратиться к этой теме?
– Мои друзья часто говорили мне: "Ты, как выпьешь, сразу начинаешь рассказывать истории об отце. Надо с ними что-то сделать". Во время работы над сценарием «Адама и Эвелин» я сломал ногу и не мог продолжать. Надо было срочно занять себя чем-то другим. И тогда я написал десятистраничный синопсис "Функционера". В основном там были мои воспоминания об отце. Для меня его биография стала поводом оглянуться назад и посмотреть на ГДР. Но это совершенно другое кино, там говорится о партийном аппарате. Делать фильм было сложно, мне приходилось бороться с самим собой, чтобы все это отпустить.
– А какой была реакция на "Функционера"?
– В целом картину приняли хорошо, но я также получил свою порцию критики и справа, и слева. Люди из партии заявляли: "Мой отец знал твоего отца, он был не только функционером". А с другой стороны говорили: "Понятно, снова обеление ГДР". Но вот что самое интересное: везде, где я был с этим фильмом, люди после показа начинали рассказывать что-то о себе. То есть картина стала спусковым крючком для очень важных воспоминаний и обсуждений.
– Чувствовали ли вы когда-нибудь то, что называют "остальгией"?
– Нет, я бы это так не назвал. Мои воспоминания о ГДР – это воспоминания о временах, когда экономика не была такой примитивной, как сейчас. Но мы, конечно, не знали, насколько глубок был экономический кризис. Не понимали, что шанс на реформы был, вероятно, упущен еще в 70-е, что курс на гласность и перестройку в Советском Союзе был провозглашен слишком поздно. Я не выгораживаю ГДР и не защищаю ее. Там было ужасно. Но суть в том, что и сейчас не лучше. Мне кажется, капитализм не способен решить те проблемы, которые сам же и порождает.
– А вы помните, где были, когда пала Берлинская стена? Ваша героиня Эвелин наблюдает за этим процессом по телевизору.
– Со мной было то же самое! У меня была подруга из Австрии, которая целый семестр училась в Берлине. И вот она была снаружи. А я сидел дома, смотрел телевизор и спрашивал себя: придут ли теперь танки? Они всегда были гарантией Восточной Германии. Было очевидно, что страна просуществует ровно столько, сколько там будут стоять советские танки. И когда они не появились, я понял: это конец ГДР.
Беседовала Ксения Реутова